Послезавтра день моего рождения. Мне исполнится 78 лет. В последние годы я часто вспоминаю слова из «Записных книжек» Жюля Верна: «Как коротка жизнь, но как бесконечно долог путь от первого до последнего ее дня…»
Мне иногда кажется, что обо всем прожитом я где-то прочитал. Не может быть, чтобы все это в действительности произошло на протяжении одной жизни, - Русско-Японская война, Революция 1905 года, Первая Мировая война, Гражданская война и интервенция, Февральская революция, Октябрьская революция, война с Финляндией, Великая Отечественная война… Неужели я действительно был знаком с М.М. Ипполитовым-Ивановым и Я.Сибелиусом, пережил смерть Ленина и сталинскую эпоху… Слушал Шаляпина и Маяковского, бегал на матчи знаменитых в свое время московских футбольных команд ЗСК и СКЗ, ездил по Старому Арбату на трамвае, а по Рождественским (позже – Советским) улицам в Петербурге на конке… Видел торжества по поводу 300-летия Дома Романовых и был на Патриаршем Подворье на Фонтанке на торжественном богослужении патриарха Тихона…
Сквозь толщу восьми десятилетий ясно просвечивают события, связанные с началом жизни. Иногда трудно поручиться – помню я это сам или со слов папы или мамы, но под любым из таких «просветов» поставлю свою подпись с абсолютно чистой совестью. Да, путь от начала до сегодняшнего дня кажется неправдоподобно долгим… Но и очень кратким. Так долго жил и так мало сделал – от этой мысли можно сойти с ума, если отпустить вожжи, которые держишь в своих руках. Так мало! Так мало! И многое из сделанного так несовершенно, так плохо!..
Я родился 30 (17 по старому стилю) декабря 1904 года в Петербурге. Крестины мои был назначены на воскресенье 9 января, однако в городе было неспокойно. Жили мы недалеко от Таврического Дворца, а церковь находилась поблизости от казарм и в городе уже кое-где была слышна стрельба. Естественно, что меня не решились нести в церковь, и нашли какого-то батюшку, который охотно согласился выкупать меня в святой купели дома. Детство мое было ничем не примечательно. Единственным значительным в масштабах тех лет моей жизни событием был случай, который я впоследствии в шутку называл атеистическим актом: я в возрасте полутора лет снял с себя крестильный крест, аккуратно обмотал его цепочкой, (а крест и цепочка были большие – дедушкины!) и спокойно проглотил. Говорят, что на вопрос «зачем я это сделал» я убедительно ответил: «Так надо было». Однако этот опасный эксперимент закончился вполне благополучно. По истечении назначенного врачами срока, когда уже была назначена операция, я возвратил крест своим счастливым родителям.
О родителях я хочу сказать несколько слов, особенно об отце, благодарить которого за то, что он мне дал своим воспитанием, - я не перестаю до сих пор. Его звали Борис Клавдиевич, сын военного инженера, генерала, строителя, а потом и начальника Луганского оружейного завода, он был очень прогрессивным человеком. Одно то, что, нарушив дворянские традиции, он женился на моей матери - Надежде Александровне, принадлежавшей к мещанскому сословию, и что он принципиально не вписал меня и мою сестру в «дворянские книги», - говорит о том, что к своему сословному положению он относился весьма скептически. Окончив физико-математический факультет Петербургского Университета в 1900 году, отец поступил в Управление Государственных сберегательных касс, позже стал одним из организаторов системы государственного страхования. Когда папа хотел поддразнить маму, он говорил, что род наш пошел от украинских кантонистов. Я так и не знаю – была ли это просто шутка или действительно я должен искать своих предков среди безымянных сирот-воспитанников военных поселений 18 века… Так или иначе, какая-то военная закваска в нашем роду была. Прадед, на своем единственном портрете, который я в детстве видел на папином письменном столе, был изображен в старом военном кителе и, насколько я помню со слов отца, имел отношение к саперному делу. Дед был военным инженером, ушедшим в отставку в чине генерала. За строительство Луганского оружейного завода получил личное дворянство, был и начальником этого завода. Хоронили его с военным оркестром, чем мы с сестрой очень гордились. Отец не пошел по семейной военной тропе. Прослужив всю жизнь на государственной службе, он был прирожденным педагогом, с пытливым умом, склонностью ко всяческим выдумкам и с удивительным умением подходить к детям. Он уделял много времени нам с сестрой, хотя многое из его воспитания часто вызывало недовольство и даже возмущение, особенно в тех кругах, в которых мы жили.
Так, например, отец по воскресеньям часто отправлялся со мной и сестрой в далекие прогулки и обязательно шел в какую-нибудь извозчичью чайную или на какой-нибудь постоялый двор. «Вы должны знать простых людей и не считать их людьми хуже себя», - говорил он нам. Он требовал, чтоб мы с сестрой называли прислугу в доме «на Вы» и обязательно здоровались со швейцаром или с дворниками первыми. «Хороший швейцар лучше плохого министра», - помню его слова. Я вспоминаю об этом потому, что здесь следует искать основу того мировоззрения, которое так хорошо подготовило меня к жизни, сделало меня, родившегося «дворянским сынком», настоящим советским человеком, большевиком, не знавшим никогда никаких идейно-политических колебаний. Если к такому воспитанию отца добавить неустанное внимание со стороны матери, окончившей женские педагогические курсы, с самых ранних лет вырабатывавшей в нас – ее детях чувство долга, ответственности перед любым взятым на себя обязательством, - в первую очередь к учебным занятиям - то станет ясно, почему о своих родителях я пишу с чувством самой искренней, глубокой благодарности.
Единственный дедушка, которого мы с сестрой знали, - был отец нашего отца Клавдий Егорович. Ко времени, о котором я вспоминаю, он был в чине генерал-майора, получив личное дворянское звание за строительство патронного завода в Луганске (позже - Ворошиловграде). Позже, выйдя в отставку и переехав в Петербург, дедушка с семьей поселился на Охте, бывшей тогда далеким пригородом, где и прожил до конца своих дней. Приезжая к нам в гости, он на прощание обязательно дарил нам с сестрой по блестящей монетке, говоря при этом почему-то «На парикмахерскую». Мы не знали, что это были золотые 5-рублевки…
В нашем доме музыка была всегда, хотя и занимала весьма скромное место. Мать немножко играла на рояле и пела, а отец любил напевать, аккомпанируя себе на гитаре, всякие песни, среди которых были и студенческие песни его времени, и народные (почему-то в основном украинские – возможно потому, что отец родился и детство провел на Украине) и популярные цыганские романсы. Наиболее же сильным источником домашних музыкальных впечатлений была мамина сестра Ада Александровна, учившаяся в свое время у Есиповой и по моим воспоминаниям неплохо игравшая на рояле. Когда она к нам приходила, да еще со своей подругой-певицей, я сколько угодно мог сидеть у рояля и слушать их музыку. Когда никого не было дома (вероятно, чтобы не терзать уши), моя бабушка говорила: «Ну иди, побренчи!» Я усаживался за рояль и извлекал из него какие-то звуки. Какие – конечно, не помню. Когда мне было лет пять, я нашел где-то лист чистой нотной бумаги и исписал его немыслимыми каракулями. В ближайший же вечер, когда пришла тетя Вера, я потребовал, чтоб она сыграла то, что я написал. Она пришла в ужас от моих каракуль и сказала, что этого никто на свете сыграть не сможет. Я очень расстроился, горько заплакал и с тех пор не брался за нотную бумагу лет пятнадцать. Аппетит к сочинению музыки был отбит надолго.
Когда мне исполнилось 7 лет, отце отдал меня в Городское начальное училище. Это было невероятно для нашей среды – ведь в этих училищах учились только простые дети бедных родителей. Но отец последовательно вел свою линию. И как он был прав. В училище я получил великолепную подготовку к гимназии и, что, быть может, было не менее важным, три года пробыл в среде простых мальчиков. Я никогда не вспоминал о своем привилегированном происхождении и рос в хороших, нормальных условиях.
Примерно в те же годы меня решили учить музыке. Учительницей, конечно, стала тетя Вера и как почти всегда бывает в таких случаях – мои занятия закончились довольно быстро и весьма курьезно. У меня были хорошие способности – абсолютный слух, хорошая память, безотказное чувство ритма и большие руки. Я мог бы делать хорошие успехи, но с первых же уроков у меня появилась ненависть ко всякого рода упражнениям, гаммам, этюдам. Вместо того, чтоб учить уроки, я любил импровизировать (это было свое, выдуманное, и поэтому мне очень нравилось) или подбирать по слуху слышанное. Все же кое-какие успехи я стал делать. И вот однажды, когда у нас собрались гости, тетушка решила похвастаться успехами своего ученика. Я долго сопротивлялся, но меня все же усадили за пианино, которым был заменен допотопный прямострунный рояль, и велели сыграть какую-то только что выученную пьесу – кажется, это был этюд Бургмюллера. Я был зол и решил подшутить над своей настойчивой учительницей: к непередаваемому ужасу тетушки, мамы и гостей я лихо, не отпуская нажатую раз и навсегда левую педаль, забарабанил накануне по слуху подобранный «Матчиш». Где я его слышал – не помню. Но дома музыка всегда стояла у нас на уровне хорошего вкуса и эффект, произведенный мною, был великолепен. Я добился своего – меня освободили от нелюбимых уроков. Так я перестал заниматься музыкой до 14 лет.
В 11 лет я окончил городское Училище и поступил в 1 Петербургскую мужскую гимназию. На экзаменах я оскандалился. По всем предметам получил пятерки, а по Закону божьему – четверку. К счастью, «проваливший» меня батюшка оказался тем самым священником, который 9 января 1905 года, заткнув мне рукой нос, рот и уши, окунул в святую воду. Не случись этого совпадения – и не приняли бы меня в гимназию. Кончилась пора беззаботной жизни – требования в гимназии были очень высокими и заниматься приходилось очень и очень много. Только летом, по-прежнему, как и в ранние детские годы, живя в деревне на станции Сиверская под Петербургом, я наслаждался жизнью в полном мальчишеском смысле этого слова. Я любил лес, поле, реку, пенье деревенских девушек и сохранил эту любовь на всю жизнь.
Поступил я в гимназию осенью 1915 года, т.е. через год после начала войны. Летом неподалеку от нашей деревни на Сиверской стояла Дикая Дивизия. Я часто бегал смотреть на казавшихся мне необыкновенно страшными всадников и на их горячих коней. Вскоре пришло сообщение о гибели на фронте единственного папиного брата. Мать работала сестрой милосердия в госпитале, в доме появился белый халат с красным крестом на рукаве и рассказы о страданиях и горе. Это были первые впечатления о новой, неизвестной и какой-то очень серьезной жизни.
Чем я только ни увлекался в детстве. Не говоря о солдатиках и марках, я занимался вышиванием, выжиганием по дереву, терракотовыми работами, рисованием, черчением (обожал из толстых папиных книг по математике переписывать самые сложные формулы и уравнения), мастерил настольный театр, строил железные дороги через всю квартиру, много читал, изучал немецкий язык…
От меня требовали, чтоб я хорошо учился, чтоб готовил себя к жизни, стал знающим, умеющим справиться с любой работой, человеком. Но уже в те года я начал проявлять некоторую неуклюжесть и нескладность, которая в дальнейшей жизни причиняла мне немало хлопот. Порядки в гимназии были очень строгие, дисциплина беспредельно жесткая. А я стал «отличаться». Дважды попал в «кондуит» - сперва выбил в зале гимназии огромное зеркальное стекло, а потом, как гласила запись в «кондуите», «во время урока русского языка сидел под партой и завтракал». Далее случилось хуже, совсем чудовищное с точки зрения дисциплины вообще, а тем более с точки зрения старой классической гимназии. Я был дружен с гимназическим сторожем Никифором и однажды, спускаясь по лестнице после уроков, увидел впереди знакомую лысину и форменный сюртук Никифора. Догнав его, хлопаю по плечу и развязно говорю: «Ну, как дела?» Вдруг ко мне стремительно поворачивается и с беспредельным гневом смотрит лицо инспектора – грозы нашей гимназии. Я так растерялся, что дрожащим голосом произнес: «Простите, я спутал Вас с Никифором». Форменный скандал, вызваны родители и с большим трудом я остался гимназистом.
В третьем классе русский язык преподавал Алексей Василькович Миртов, организовавший в нашем классе журнал «Стихи и проза». Я был членом редакционного Комитета и активным автором этого журнала. В единственном номере, который удалось выпустить, были напечатаны моя басня «Жук и цыплята» и рассказ «В стужу». Трудно представить себе что-либо более бездарное! Но зато это были мои первые шаги на литературно-редакционном поприще.
В том же году я пережил большое потрясение – получил единственную за все годы обучения единицу. На вопрос, когда в истории впервые упоминается Москва, я бойко ответил: «Когда-то в середине 19 века». - «Садитесь, не в то корыто попали» - произнес свою неизменную в таких случаях фразу наш хромой и лысый историк и одновременно я услышал противный скрип пера, выводившего в журнале жирный кол.
Не знаю – можно ли ставить в какую-либо связь с этой единицей то, что я всю жизнь не мог совладать с хронологией, да и вообще история навсегда осталась моим уязвимым местом, но факт остается фактом…
К этим же гимназическим годам относятся мои первые яркие музыкальные впечатления уже не домашнего свойства. Я слушал оперу «Жизнь за царя» Мусоргского, которая показалась мне скучной, и «Тараса Бульбу» Лысенко (в Народном Доме). Последняя произвела на меня глубокое впечатление, в чем не последнюю роль сыграли, возможно, живые лошади на сцене. Но наибольшее впечатление произвел на меня знаменитый в то время балалаечный оркестр под управлением Андреева. Кажется, солистом выступал Трояновский. Тогда же я впервые услышал имя Римского-Корсакова. Связано это было с тем, что известный либреттист Римского-Корсакова, Бельский был одно время папиным сослуживцем и бывал у нас дома. Хорошо помню его, особенно большую шишку на лысом черепе.
Приближались события 1917 года. В городе становилось неспокойно. Напряженную атмосферу чувствовали и мы, дети, хотя о политике не имели толкового представления. Мы видели бесконечные очереди в лавках и магазинах, еще больше, чем обычно, городовых на улицах. Наконец настали февральские дни революции. Нас не пустили в гимназию. Мы знали, что на чердаке нашего дома сидят городовые с пулеметами. К окнам подходить не разрешали, хотя окна нашей квартиры и выходили во двор. Потом мы услышали стрельбу. Стреляли и на нашем доме. Папы не было дома, волнение за него было, конечно, главным чувством в тот момент. Но вот он пришел, позвал нас с сестрой и сказал: «Ну вот, царя свергли. Больше царя не будет». Честно говоря, я не мог понять, что же дальше будет. Я помнил торжества в честь 300-летия дома Романовых и не думал, что без царя может быть государство. А что будет дальше – даже папа не мог объяснить мне достаточно вразумительно. Все это было необычно и очень интересно. Наконец нас выпустили на улицу, и я пошел в гимназию. Мне кажется, никогда я не видел такого оживления – люди заполняли улицы, у многих я запомнил красные банты и розетки. На углах митинговали. Я понял, что произошло что-то очень значительное, что царя уже свергли и что кого-то «продолжают свергать». Я решил, что надо действовать. В классе стоял невообразимый шум, хотя большинство из нас ничего как следует не понимало. В класс вошел ненавидимый нами директор – немец Ветнек. Воцарилась абсолютная тишина. Директор посмотрел на нас каким-то особым, пристальным взглядом и произнес тихо: «Дети…» Несколько человек, и я в том числе, истошными голосами крикнули: «Долой Ветнека!» Поднялся невообразимый шум, Ветнек побагровел и пулей вылетел из класса. Счастью нашему не было границ – мы учинили революцию! Но нас немедленно выгнали из класса и всех распустили по домам. Собрали лишь через неделю. Ветнека в гимназии больше не было, нам велели выбрать старосту класса. Что такое староста класса я не знал, но был очень горд, когда выбрали меня. Так началась моя общественная деятельность.
После февральской революции занятия в гимназии разладились. Следующий – 1917/1918 учебный год прошел как-то вразвалку. Наиболее яркие воспоминания связаны со всевозможными бытовыми трудностями – в первую очередь со стоянием в очередях продуктовых лавок. Жалования, которое получал отец, стало явно не хватать на жизнь. В этот год я впервые стал работать, т.е. зарабатывать деньги. В течение одной зимы я испробовал три профессии: в какой-то художественной мастерской писал какие-то плакаты, по чьему-то поручению продавал в трамваях справочные таблицы купонов от облигаций займов, имевших хождение наравне с деньгами, и был почтальоном – разносил письма с фронта. Вторая из перечисленных профессий привлекала меня тем, что давала право бесплатного проезда в трамваях – и я, забыв о необходимости продавать списки, катался по всему городу. Профессия почтальона понравилась мне прежде всего тем, что во многих домах, куда я приносил письма, - подчас от людей, которых уже считали погибшими, - меня встречали с радостью, усаживали за стол и кормили. Все заработанные деньги я приносил матери, очень был горд этим и впервые почувствовал себя взрослым человеком. Но в общем год был трудный и тревожный. Запомнилось, с каким возмущением отец говорил об одном из своих сослуживцев, собиравшемся уезжать «от революции» за границу.
Летом 1918 года отец, придя как-то со службы (работал он тогда в Управлении Государственными сберегательными кассами), сказал, что столицу переводят из Петрограда в Москву и нам предстоит переезд.
До тех пор кроме Петербурга я видел мельком, во время поездки всей семьей по Волге летом 1914 года, приволжские города – от Рыбинска до Астрахани. Переезд в Москву, бывший и в самом деле немаловажным событием, казался мне полным переворотом в жизни. И это очень увлекало. Начались сборы, сводившиеся в основном к продаже мебели и большей части имущества, т.к. везти с собой можно было очень ограниченное количество. В середине июля мы погрузились в длиннейший поезд, состоявший, кроме одного классного вагона, только из товарных. Поездка да Москвы длилась три дня. За это время я познакомился с сыном сослуживицы отца – Юрой Шенгер. Мы стали друзьями на всю жизнь – более близкого друга у меня никогда не было, и у него тоже.
В Москве мы сперва поселились в общежитии на Донской улице – всей семьей в одной комнате. Очень скоро началась трудовая жизнь. Мы с Юрой ходили куда-то на Воробьевы горы и, еле волоча от усталости ноги, но веселые, приносили домой мешки с картошкой. После переезда осенью на Проточный переулок меня отдали в школу №35 второй ступени, в четвертый класс. Совместное обучение с девочками окрасило жизнь в новые краски, однако то, что происходило в школе в целом, занятиями я мог бы назвать с очень большой натяжкой. Дисциплины не было абсолютно никакой. Учились в тех пределах, в каких сами хотели. На экзамене по биологии, например, на вопрос «чем питаются растения» кто-то ответил: «грязной водой» и получил зачет… Я стал почему-то председателем школьной продовольственной комиссии и ежедневно возглавлял ватагу ребят, ходивших в столовую за ужасающими обедами для всей школы. Хорошо все же, что обеды были хоть такие – становилось все голоднее и холоднее. Дров не было, и зимой в квартире стоял мороз. Всей семьей мы перебрались на кухню, обогревавшуюся печкой-«буржуйкой». За дровами я ходил к Брянскому (Киевскому) вокзалу, и подолгу стоял на морозе в ожидании, когда кто-нибудь из возчиков дров соблазнится тем ничтожным количеством рублей, которые я мог предложить, и продаст сырое бревно.
Однако именно тогда я стал брать уроки музыки и в 1919 году поступил в 3 Государственную музыкальную школу на Арбатской площади. На вступительных экзаменах я сыграл два этюда Бургмюллера и сольфеджио База и был принят в класс к «самому» директору школы В.А. Селиванову. На несколько дней раньше я сдавал вступительные экзамены в школу сестер Гнесиных и тоже был принят. Однако внешность старшей из сестер - Елены Фабиановны Гнесиной – показалась мне настолько страшной, что я решительно отказался у нее наниматься, о чем, пожалуй, жалею - при всем удивительно хорошем отношении ко мне В.А.Селиванова я все же должен признать, что он был плохим учителем.
Мне тогда было 15 лет – возраст, в котором обычно считается уже поздно начинать заниматься музыкой. Условия жизни тоже мало способствовали успешности моих занятий. Зимой в кухне я надевал шубу, валенки и шапку и в таком виде шел в комнату с температурой ниже нуля, где стояло взятое напрокат пианино. Быстро сняв рукавицы, я учил уроки, преодолевая боль в красных, распухших и потрескавшихся пальцах. Не могу сказать, что в тот период я занимался с большим удовольствием, но воспитанная с детства привычка делать по возможности как следует все, за что взялся, - брала свое. И постепенно, несмотря на то, что Селиванов несколько раз собирался выгнать меня за безделье (оставлял, по его словам, только потому, что жалел хорошо воспитанного мальчика), я начал делать успехи. Закончив в 1921 году третий класс школы я с оценкой «весьма удовлетворительно» был зачислен прямо на третий курс Первого Музыкального Техникума (у Никитских Ворот). О сочинении музыки я все еще не думал и не пытался наверстать упущенные годы. Поскольку я быстро выучивал новые произведения, Селиванов задавал мне все новые и новые произведения, обычно превосходившие по степени трудности мой уровень. В итоге я привык ничего не доучивать до конца, играть небрежно и неряшливо, но бойко и внешне музыкально. Да и времени заниматься много не было: одновременно я не только учился в общеобразовательной школе, но и служил в квартальном управлении (Москва была тогда разбита на кварталы) делопроизводителем. Школьная жизнь продолжала быть неорганизованной, но бурной и веселой. Я побывал членом школьного совета и школьного суда (был и такой). Когда стало очевидным, что администрация не в состоянии навести в школе порядок, мы с моими товарищами организовали «Семерку» и объявили, что отныне берем всю жизнь в школе в свои руки. Сейчас даже не верится, что все это могло быть, но это было именно так. «Семерка» занималась всем: мы пытались наладить продовольственное снабжение школы, вместе с учителями обсуждали учебные дела, объявляли субботники и даже отменяли занятия, когда считали это нужным. Но едва ли не самым главным своим делом мы считали организацию школьных вечеров - концертов и спектаклей. Один из них запомнился мне на всю жизнь.
Это было в голы. Вместе с моим большим другом Олесем Воротынским мы решили поставить две пьесы – он комедию «Именины Леночки», а я драматический этюд Куприна «Клоун». Самым нелепым в этой затее было то, что я был отчаянным весельчаком. А Олесь был склонен к сентиментальной меланхолии. Оба мы играли главные роли в своих постановках; я – клоуна, который вынужден выйти на манеж вслед за тем, как, сорвавшись из-под купола, погибает его сын, а Олесь – «шутника», подлившего на именинах Леночки ей в чай касторки. Результат получился совершенно неожиданным: публика надрывала животы от смеха во время моего «драматического этюда» и уныло безмолвствовала во время комедии. Более того, я должен был бросить в директора цирка, требовавшего моего выхода на арену, шляпу, но вместо нее бросил подвернувшуюся под руку чернильницу и рассек игравшему эту роль щеку. А с перепугу, вместо последней. под занавес, вместо последней, под занавес, фразы: «Выведите лошадей из конюшни!» я крикнул: «Выведите конюшню из лошадей!» В комедии же Олеся девочка, исполнявшая роль Леночки, играла столь натурально, что присутствовавший в зале школьный врач с криком: «Да что же это такое – одному артисту щеку в кровь разбили, у другой живот разболелся!» бросился на сцену. Спектакль был сорван. Ни Олесь, ни я больше никогда не пытались пробовать свои силы на актерско-репетиционном поприще
Все эти веселые в конце концов вечера в дружной семье школьных товарищей скрашивали жизненные трудности. А жить становилось все труднее. Наступил настоящий голод. Я ходил на бывший Смоленский рынок и смотрел, как «богачи» - спекулянты ели пшенную кашу, покупая ее в ларьках. Однажды за этим занятием меня застал случайно проходивший через рынок отец. Не глядя мне в глаза, он купил тарелку каши и дал мне: «На, поешь…» Я до сих пор не в состоянии спокойно вспоминать об этом. Трудно представить, что переживал в эти минуты отец…
За год до окончания школы стало как-то особенно трудно. Есть было практически нечего. У меня начался процесс в легких, плохо было с сердцем – сказывался порок сердца, пожизненная память о перенесенной в детстве ангине. Списались с маминым братом, доктором, работавшим тогда в Пятигорске директором Управления Кавказских Минеральных Вод, и мы с матерью отправились в Пятигорск. Три дня, предварительно проведенных в Лефортовском эвакопункте, обошлись мне дорого – я заболел тяжелой малярией. Уже в поезде, как только отъехали от Москвы, обнаружилось, что у меня жар 40. Боясь свирепствовавшей малярии, санитарный врач хотел снять меня с поезда. Больших трудов стоило отменить это решение. Всю дорогу меня мучила эта изнуряющая болезнь, а ехали мы 17 (!) суток. Стояли на всех станциях, полустанках и между ними – в поле, в лесу - неизвестно почему. Доехав до южной части России, попали в полосу, где действовали всяческие банды. В голове и хвосте нашего поезда для охраны шли два бронепоезда, по ночам иногда слышалась стрельба, по вагонам бегали озабоченные охранники-красноармейцы. Доехали все же благополучно. Два месяца, проведенные в Пятигорске, вернули мне здоровье и …удивительно вытянули меня кверху – до этого я был очень невысокого роста и поэтому вернулся в невероятном виде: брюки кончались сразу же где-то под коленями, рукава – где-то около локтей. После этого лета я уже почти больше не рос.
На следующий год я окончил общеобразовательную школу и перешел с четвертого сразу на шестой курс музыкального Техникума. Начинался новый период в моей жизни.
Веры в то, что музыка сможет стать моей профессией, не было ни у меня, ни у моего отца. Еще учась в школе, вероятно, под влиянием своей деятельности в школьном суде, я стал думать о юридической карьере и собирался поступать в Университет. Однако весной 1922 года, когда я пошел подавать заявление о приеме, меня постигло большое разочарование: в Университет принимали только по рабочим командировкам, я же был сыном служащего, да еще бывшего дворянина. У меня даже не приняли заявление. Но расставаться со своей мечтой мне не хотелось. Я узнал, что в Социально-экономическом институте им.Ф.Энгельса можно держать конкурсные экзамены без всякой командировки. Я подал документы и поступил, несмотря на большой конкурс. Однако свойственная мне вообще разбросанность и аппетит к самым разным занятиям и здесь не дали мне покоя. Унаследовав от отца любовь к рисованию и занимаясь этим с детства, после поступления в институт я поступил в Студию живописи и рисования (на Смоленском бульваре). Конечно, скоро я обнаружил, что одновременно заниматься в Музыкальном Техникуме, Социально-экономическом институте, студии живописи и при этом еще служить – с 1922 года я стал работать в Музыкальном Техникуме – немыслимо даже при моей большой работоспособности. В середине года я бросил студию, весной – институт. Музыка сделалась моим единственным серьезным делом.
Три года – с 1922 по 1925 – определили все дальнейшее течение моей жизни. Постепенно я стал чувствовать, что весь смысл моего существования – в музыке и, главное, что музыка может и должна стать моей профессией. К этим же годам относятся мои первые попытки сочинения музыки – именно сочинения, а не импровизации, которой я охотно занимался и раньше. Постепенно накапливался музыкальный опыт – я бывал на многих концертах, любил читать с листа новую музыку и сравнительно легко научился записывать свои «мысли» на нотную бумагу. Однако показывать кому-либо свои сочинения я долго не решался. Наконец в 1923 году я собрался с духом и принес В.А.Селиванову свои первые опусы. А их было уже немало. Сочинял я, конечно, главным образом для фортепиано. Это были фантазия, куча прелюдий и поэм, и даже большой одночастный концерт. Было и около десятка романсов на стихи самых различных поэтов – от А.Толстого до Бальмонта. Селиванов был крайне изумлен, обнаружив, что я сочиняю, да еще в таком изобилии, и буквально в тот же день решил создать в Техникуме композиторское отделение. Были приглашены профессора: класс сочинения был поручен Г.Катуару, инструментовки – С.Василенко, гармонии и полифонии – Ал. В. Александрову. У этих прекрасных педагогов я и начал свои занятия по сочинению и по теории. Самое удивительное, что примерно полгода я был единственным учеником этого нового отделения. Потом появилось еще несколько человек, в том числе Л.Мазель, сочинявший ужасно «скрябинозную» музыку. Впрочем, все мы тогда увлекались Скрябиным. У меня это увлечение началось с того, что сестра подарила мне ноты фортепианного этюда Скрябина из ор.65 (№9, кажется). Я ничего не понял в этой музыке, но, тем не менее, заинтересовался, и с тех пор, как только в кармане появлялись деньги, шел и покупал сочинения Скрябина. Так, опус за опусом, без пропусков, начав с Вальса ор.1, я добрался до квинтового этюда. Тогда и на всю жизнь я полюбил Скрябина до 4 Сонаты, а все дальнейшее его творчество (хотя кое-чем, например, 5 Сонатой, иногда и увлекался) осталось за пределами моих музыкальных привязанностей.
Занятия в Техникуме стали меня по-настоящему увлекать. Я много играл, сочинял, занимался различными теоретическими предметами. Весной 1924 года я окончил фортепианное отделение, сыграв на экзамене Прелюдию и фугу Баха (с-moll из WC), Токкату, Аufchwang in fraumeswirren Шумана, этюд (Des) Листа и 2 Сонату Скрябина. На экзамене по сочинению сыграл одну из множества написанных тогда фортепианных сонат, важно помеченную ор.11. Играл неважно, но с оценкой «в. уд.» был переведен на специальное «виртуозное» отделение, которое и окончил через год. На экзамене играл Хроматическую фантазию и фугу Баха, 32 вариации Бетховена, Этюд (Е) Паганини-Листа, Карнавал Шумана, 4 Сонату Скрябина и 1 часть фортепианного (В) Концерта Чайковского. Программа, конечно, была непомерно трудна для меня и выехал я только, как говорится, природной музыкальности и обшей музыкальной развитости. По композиторскому отделу экзамена не держал, т.к. ничего толкового к весне сочинить не удалось.
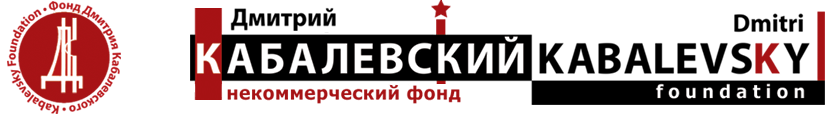









 В 2019 году исполнилось 115 лет со дня рождения композитора, дирижера, педагога и просветителя Дмитрия Кабалевского. К этой дате Фонд Дмитрия Кабалевского подготовил проект «Кабалевская эстафета», включающий конкурс, концерты, мастер-классы и фестиваль «КабалевскийФест-2019». По замыслу организаторов мероприятие стало продолжением идеи композитора о создании системы всеобщего музыкального и культурного образования в России.
В 2019 году исполнилось 115 лет со дня рождения композитора, дирижера, педагога и просветителя Дмитрия Кабалевского. К этой дате Фонд Дмитрия Кабалевского подготовил проект «Кабалевская эстафета», включающий конкурс, концерты, мастер-классы и фестиваль «КабалевскийФест-2019». По замыслу организаторов мероприятие стало продолжением идеи композитора о создании системы всеобщего музыкального и культурного образования в России.

